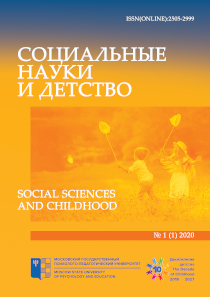Influence of Confessional Beliefs on Professional Activity of Specialists of Guardianship and Custody Bodies under Conditions of Uncertainty
- Authors: Semya G.V.1, Yulia I.M.2,1
- Affiliations:
- Moscow State University of Psychology and Education
- Administration of the Mezhgorye, District of the Republic of Bashkortostan
- Issue: Vol 5, No 4 (2024)
- Pages: 8-22
- Section: Pedagogy & Psychology of Education
- URL: https://editorial.mgppu.ru/ssc/article/view/4689
- DOI: https://doi.org/10.17759/ssc.2024050401
- Cite item
Abstract
The article examines the influence of religious beliefs on the professional activities of specialists of guardianship and custody agencies in conditions of uncertainty, including legislative gaps. The study focuses on the specifics of the work of specialists belonging to different confessions (Orthodoxy and Islam) and those who do not define their religious affiliation. The empirical study covered three groups of respondents aged 20 to 55 years (mean age — 40.5 years, SD ± 2.35), among whom all participants were women. The following methods were used for the analysis: the Religious Orientation Scale (G. Allport, D. Ross), the Resilience Test (E.N. Osin, E.I. Rasskazova), the Dispositional Optimism Questionnaire (T.O. Gordeeva, O.A. Sychev, E.N. Osin), and the adapted methodology “Compassion Fatigue in helping professions” (D.A. Orlova, A.P. Lobanov). The author's socio-demographic questionnaire was also developed to collect additional data on specialists. The results of the study showed that not so much religion itself, but rather the degree of religiosity (compliance with the prescriptions of sacred texts) have an impact on the effectiveness of specialists' work in conditions of uncertainty.
Введение
В программы магистратуры «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних» и повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства (далее — ООиП), реализуемые Московским государственным психолого-педагогическим университетом, включены темы, касающиеся конфессиональных и этнических факторов работы с семьями и детьми [7; 10; 16; 17]. Навыки, приобретенные специалистами ООиП, помогают им не только учитывать религиозные и этнические особенности, но и создавать доверительную атмосферу, способствующую эффективному сотрудничеству с семьями и поддержанию благополучия детей.
Взаимодействие с представителями различных религиозных конфессий требует от специалистов ООиП высокой степени толерантности, уважения и способности учитывать культурные особенности в процессе работы, поскольку современное общество все более открыто заявляет о своем вероисповедании, посещает церковь (другое культовое сооружение) и избрало религиозные ценности главенствующими в своей жизни [15]. В статье термины «религия», «вероисповедание», «конфессия» по смыслу и употреблению используются как идентичные [12].
Религия представляет собой духовный системообразующий феномен, который обладает огромным социально-психологическом ресурсом. Заложенная в религию духовность помогает человеку в трудной жизненной ситуации, она может способствовать разрешению проблем личностного, социального и экзистенциального характера представителям разных возрастных и гендерных групп и профессий [6].
В современном обществе религиозные убеждения и ценности заняли важное место в решении проблем формирования личностной идентичности, отношения к работе. Ряд исследований посвящен вопросам самоопределения человека через его деятельность, труд, профессию. Считается, что религия первой дала ответ на вопрос об идентичности человека и смысле его жизни. Человек находил свое спасение в труде и молитве. Религиозная этика устанавливала собственные правила относительно угодных и запрещенных профессий, регламентировала трудовые отношения [5].
Отдельные исследования посвящены влиянию религии на поведение специалистов помогающих профессий. Данные профессии имеют отношение к разным социальным сферам, например, медицине, обучению и воспитанию, социальной защите и т. д., и особенностью является направленность деятельности на оказание разных форм и видов помощи нуждающемуся человеку или группе лиц. Личность специалистов помогающих профессий — их наиболее важный профессиональный «инструмент» [2].
Мотивация поступления на медицинскую специальность различается в зависимости от отношения студентов к религии и вере. При этом подавляющее большинство студентов вне зависимости от религиозности видят цель своей работы прежде всего в желании помогать и лечить людей (77%). Поведение медиков в период пандемии COVID-19 показало, что для них основной востребованной и высоко оцениваемой характеристикой является высокий врачебный профессионализм, который не зависит ни от отношения к религии и вере, ни от врачебной специализации, ни от опыта работы [3].
В структуре индивидуальной религиозности пожарных выделены три компонента, обусловленных особенностями их профессиональной деятельности: 1) отношения к религии как к философской концепции, позволяющей осмыслить происходящее в жизни во всей ее противоречивости, а зачастую и трагичности; 2) склонности рассматривать религию как источник поддержки и утешения в условиях, которые невозможно полностью контролировать даже высокопрофессиональными действиями; 3) стремления соблюдать внешние атрибуты религиозной жизни как проявления внутренней дисциплинированности и навыка следовать четким правилам и распоряжениям [1].
Исследования, изучающие наличие связи между степенью и характером религиозности и трудовым поведением женщин, показали, что для религиозных женщин важным фактором профессии является ее социальная значимость. Женщины с высоким уровнем религиозности чаще подстраивают свое рабочее время под семью, а женщины с низким уровнем религиозности, наоборот, стремятся к личным достижениям, выраженным в возможности быть лучшей в работе, а также карьерном росте [4].
Исследования, связанные с взаимосвязью конкретной религии и трудовой деятельности, показывают, что православная конфессия поддерживает те виды труда, которые соответствуют христианским принципам и служат на благо общества. В исламе не одобряется деятельность, которая может навредить вере, морали и нравственности [13]. Мусульмане обладают более высокой внешней религиозностью по сравнению с христианами, что объясняется строгими требованиями к поведению, обязательным молитвам и ритуальным очищениям. Христианам часто присущи внутренняя свобода и отсутствие ограничений в настоящем, а мусульмане, в свою очередь, ощущают аналогичную свободу относительно будущего [11].
Специалисты ООиП защищают права и законные интересы детей, в первую очередь — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты). Они относятся к профессиям типа «человек-человек» [1], основная характеристика такого специалиста — максимальная ориентация на других людей, иногда до самопожертвования.
Деятельность работников ООиП строго регулируется законодательством [9; 14]. Однако в своей профессиональной деятельности они часто сталкиваются со случаями, которые требуют быстрого реагирования и понимания возможных рисков принятых решений [19; 20]. При этом это часто происходит в условиях неопределенности, связанных с противоречиями или «лакунами» в законодательстве (например, основания отобрания ребенка у родителей, выбор формы семейного устройства детей-сирот и пр.), социально-психологическими особенностями детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, и специалист часто опирается на свои собственные взгляды, ценности, в том числе религиозные, при оценке ситуации [18; 21; 22].
Религия может служить как источником моральных ориентиров и поддержки, так и фактором, определяющим подход к решению профессиональных задач. В каждой религии существует своя система взглядов на семью, детско-родительские отношения, что прямо или опосредовано влияет на рабочие представления специалиста [8].
Организация, методы и процедура исследования
Цель исследования заключается в анализе влияния степени религиозности и конфессиональной принадлежности специалистов ООиП на их профессиональную деятельность и взаимодействие с семьями и детьми, а также в определении того, как эти факторы могут влиять на принятие решений и подходы в их работе.
Задачи:
- выявить уровень религиозности специалистов ООиП и его связь с их профессиональным поведением и принятием решений в ситуациях неопределенности;
- оценить влияние конфессиональных факторов на работу специалистов органов опеки и попечительства.
Гипотеза: степень религиозности специалистов органов опеки и попечительства может оказывать влияние на их профессиональные практики и подходы к решению проблем, связанных с работой с семьями и детьми, особенно в условиях неопределенности.
Выборка. Исследование проводилось в Республике Башкортостан, где полномочия по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами возложены на муниципальные образования.
Респондентами выступили специалисты ООиП из 55 муниципальных образований региона, включая 11 городов и 44 района. Они были распределены по трем группам: 30 православных специалистов ООиП (средний возраст — 40,8 лет (SD ± 2,4); 30 специалистов ООиП, исповедующих ислам (средний возраст — 39,5 лет (SD ± 2,1); 30 специалистов ООиП, не идентифицирующих себя с какой-либо конфессией (средний возраст — 41,3 лет (SD ± 1,9) (в дальнейшем — неверующие). Все респонденты — женщины.
Методики, используемые в исследовании:
- «Шкала религиозной ориентации» (Г. Олпорт, Д. Росс),
- «Тест жизнестойкости» (Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова),
- Опросник диспозиционного оптимизма (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин),
- Шкалы психологического благополучия К. Рифф (Ryffs Scales of Psychological Well-being) в адаптации и модификации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко,
- методика «Усталость от сострадания у специалистов помогающих профессий» (Д.А. Орлова, А.П. Лобанов),
- авторская социально-демографическая анкета, разработанная для сбора дополнительных данных о специалистах ООиП и их вероисповедании.
Для обработки полученных результатов проводился качественный и количественный анализ эмпирических данных с помощью методов математической статистики (частотный анализ, U-критерий Манна — Уитни, и Н-критерий Краскела — Уоллиса).
Результаты и их обсуждение
Результаты по методике «Шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта, Д. Росса
Анализ данных показал, что склонны использовать религию в собственных целях одинаковое количество мусульман и православных (43,4%). Иногда могут использовать религию для обеспечения безопасности, комфорта, статуса или социального одобрения 53,3% православных, 56,6% мусульман. Сильно выражена тенденция к главенствующей роли религии как мотивации поведения личности у 16,5% православных, 13,2% мусульман (слабая тенденция только в группе православных — 3,3%). Иногда другие потребности могут иметь более принципиальное значение и находиться в противоречии с религиозными предписаниями у 80,2% православных, 86,8% мусульман.
Тест жизнестойкости Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой показал, что готовы проявлять активность в трудной ситуации, считать ее подконтрольной, идти на определенный риск, а в дальнейшем оптимально использовать свой опыт 23,4% православных, 13,2% мусульман и 16,6% неверующих. В некоторых жизненных ситуациях способны адаптироваться к новым условиям и эффективно справляться с различными сложными ситуациями, быстро приходить в норму или восстанавливаться после воздействия стресса 66,7% православных, 76,9% мусульман и 41,7% неверующих.
Физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, в котором человек стремится как можно лучше выполнить свою работу и достичь значимых результатов, характерно для одинакового количества православных и мусульман (26,7%) и только для 8,3% неверующих. На среднем уровне пробуждение, осознание всего, что происходит вокруг, активное погружение в мир и восприятие каждого мгновения жизни во всей его полноте отмечено у 63,4% православных, 53,3% мусульман и 58,3% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Вовлеченность» зафиксированы у 9,9% православных, 20% мусульман и 33,4% неверующих.
Всегда способны влиять на себя, других, условия, окружение или какие-либо другие обстоятельства одинаковое количество православных и мусульман (13,2%). На среднем уровне сформированы такие способности у 70% православных, 63,5% мусульман. Низкие средние значения по шкале «Контроль» зафиксированы у 16,8% православных, 23,3% мусульман и 16,6% неверующих.
Убеждены, что все усилия, направленные на преодоление трудностей, способствуют их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта как позитивного, так и негативного, 36,8% православных, 23,3% мусульман и 16,6% неверующих. В некоторых ситуациях рассматривают жизнь как процесс приобретения опыта, способны действовать при отсутствии гарантий успеха, на свой страх и риск 50% православных, 76,6% мусульман и 58,3% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Принятие риска» зафиксированы только в группах 13,2% православных и 25,1% неверующих.
Опросник диспозиционного оптимизма Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина
Считают, что в любой ситуации есть выход, 53,3% православных, 40% мусульман и 41,7% неверующих. Стараются по возможности отыскивать оптимальный выход в сложных ситуациях 46,7% православных, 60% мусульман и 58,3% неверующих.
Часто рассматривают самые плохие сценарии будущего, что позволяет им обходить или быть к ним готовыми только 3,3% мусульман. Иногда прислушиваются к негативным ожиданиям и выбирают свою ответную реакцию 23,3% православных, 19,8% мусульман и 41,7% неверующих. Редко считают, что нет шансов для нескольких благополучных вариантов развития событий, 76,7% православных, 76,9% мусульман и 58,3% неверующих.
Высоким показателям диспозиционного оптимизма соответствовали средние значения одинакового количества православных и мусульман (13,2%). Средние показатели выявлены у 80,3% православных, 83,5% мусульман и 83,4% неверующих. Низкие показатели выявлены только у 6,6% православных, 3,3% мусульман и 8,3% неверующих.
Методика «Усталость от сострадания у специалистов помогающих профессий» тест Ч. Фигли в адаптации Д.А. Орловой и А.П. Лобанова
Состояние, характеризующееся эмоциональным и физическим истощением, приводящим к снижению способности сопереживать или испытывать сострадание к другим, характерно только для 13% мусульман и 8% неверующих. Потенциальный риск возникновения такого состояния зафиксирован у 83% православных, 57% мусульман.
Высокий уровень стресса выявлен только у 3% православных и 10% мусульман. Иногда могут относиться к новой задаче скептически или негативно 63% православных, 53% мусульман и 75% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Риск выгорания» зафиксированы у 33% православных, 37% мусульман и 25% неверующих.
Всегда готовы понять страдания другого человека и оказать ему помощь 33% православных, 47% мусульман и 67% неверующих. Стараются понимать страдания других людей и оказывать им помощь 67% православных, 53% мусульман и 25% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Потенциал сострадания» зафиксированы только в группе атеистов (8,3%).
Шкалы психологического благополучия К. Рифф
Доминирует потребность проявлять заботу о других людях у 36% православных, 32% мусульман, 29% атеистов. Норме соответствовали средние значения 56% православных, 44% мусульман и 43% атеистов.
Чувство уверенности и компетентности выше нормы и норма зафиксировано у 80% православных и 76% мусульман, 71,4% атеистов.
Позитивно относятся к себе 88% православных специалистов ООиП, 72% мусульман, 71% атеистов.
Отсутствие видимых жизненных перспектив, которые обладали бы достаточной привлекательностью для специалистов ООиП, выявлено у 24% православных и 24% мусульман, 28% атеистов.
Воспринимают свое прошлое и настоящее как имеющее смысл 76% как православных, так и мусульман, а также 71% атеистов.
Фрагментарно и недостаточно реалистично воспринимают различные жизненные аспекты 40% православных, 40% мусульман и 14% атеистов. Не всегда способны соблюдать гармоничный баланс между собственными и общепринятыми интересами 12% православных, 32% мусульман и 29% атеистов.
Умеют отстаивать собственное мнение и брать ответственность за собственную жизнь 86% православных, 72% мусульман и 57% атеистов. Средние значения данных групп специалистов ООиП соответствовали показателям нормы и ниже нормы по данной шкале.
Психологическое благополучие выше нормы зафиксировано у 44% православных, 32% мусульман и 29% атеистов. Норме соответствовали средние значения 56% православных и 28% мусульман, 14% атеистов.
Использование авторской анкеты позволило выяснить степень религиозности в повседневной и профессиональной жизни специалистов ООиП.
С детства исповедуют обозначенную ими религию 52,8% специалистов ООиП, причем совершили самостоятельный ее выбор после 18 лет только 8,3%.
На вопрос анкеты «Носите ли Вы при себе символ вероисповедания?» положительно ответили 73,3% православных и 40% мусульман. Ежемесячно посещают заведения, предназначенные для собрания прихожан, совершения богослужений и религиозных обрядов, 23,1% православных и только 3,3% мусульман. Не более одного раза в год посещают церковь/мечеть 53,8% православных, 50,2% мусульман. Всегда соблюдают требования священных книг, праздников 23,1% православных и 30,3% мусульман; иногда соблюдают — 57,1% православных, 43,3% мусульман. Вариант ответа «редко» выбрали 9,9% православных, 16,5% мусульман. Не соблюдают их одинаковое количество православных и мусульман (9,9%).
Обращаются к молитвам, когда испытывают затруднения в принятии каких-либо решений, 77% православных и 70% мусульман.
На вопрос анкеты «Дает ли Вам вера ответ на основные волнующие Вас вопросы?» получены положительные ответы от 23,1% православных, 20% мусульман. Выбрали вариант ответа «может быть» еще 60% православных, 53,3% мусульман.
Результаты сравнительного анализа ответов на вопросы анкеты и методик верующих, по-разному ответивших на вопрос «Дает ли вера ответ на вопросы жизни?» (Н-критерий Краскела — Уоллиса), представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа ответов на вопрос
«Дает ли вера ответ на вопросы жизни?»
Вопросы анкеты | Дает ли вера ответ на вопросы жизни? (средние ранги) | χ2 | p | ||
да | нет | возможно | |||
Соблюдаете ли требования | 35,96 | 20,46 | 32,25 | 6,112 | 0,047* |
Внутренняя религиозность | 16,15 | 42,54 | 31,38 | 15,093 | 0,001** |
Потенциал сострадания | 34,27 | 18,5 | 33,65 | 7,853 | 0,020* |
Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05; ** — различия значимы на уровне р ≤ 0,01.
Соблюдение требований священных книг помогает находить ответы на жизненные вопросы. Высокие значения потенциала сострадания верующих согласуются с пониманием сущности специалиста помогающих профессий.
На вопрос анкеты «Религия и работа для меня не связаны?» положительно ответило одинаковое количество православных и мусульман (42,9%). В табл. 2 приведены данные результата сравнительного анализа характеристик верующих, по-разному ответивших на вопрос о связи работы и религии (U-критерий Манна — Уитни).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа характеристик верующих,
по-разному ответивших на вопрос о связи работы и религии
Шкалы | Религия и работа не связаны | U | p | |
связаны | не связаны | |||
Вовлеченность | 43,26 | 31,39 | 426 | 0,017* |
Жизнестойкость | 42,27 | 32,13 | 456,5 | 0,042* |
Шкала диспозиционного оптимизма | 41,26 | 32,9 | 448 | 0,032* |
Потенциал сострадания | 41,94 | 32,39 | 457 | 0,049* |
Управление средой | 41,27 | 32,89 | 487,5 | 0,092 |
Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05.
В выборке верующих, считающих, что религия связана с работой, обнаружены достоверные различия (уровень выраженности выше): по шкале «Вовлеченность», «Шкале диспозиционного оптимизма», общему показателю жизнестойкости, шкале «Потенциал сострадания».
Обращающиеся к молитве в процессе работы верующие имеют значимо более высокий уровень «Внешней религиозности» (U = 389,5; p < 0,05), а не обращающиеся — «Внутренней религиозности» (U = 173,5; p < 0,001).
Респондентам был задан вопрос о том, насколько они «удовлетворены своей профессиональной деятельностью»: «абсолютно удовлетворены ею» только 3,3% православных и 8,3% неверующих, «просто удовлетворены» — одинаковое количество православных и мусульман (3,3%). Не смогли определиться с ответом 23,4% православных, 30% мусульман и 33,2% неверующих. Отсутствие удовлетворенности профессиональной сферой деятельности выявлено у одинакового количества православных и мусульман (66,7%) и 51% неверующих. Крайней неудовлетворенности ею соответствовали ответы 3,3% православных и 8,3% неверующих.
Играет роль, в каком возрасте специалист принял веру (с детства или с 18 лет). Попарное сравнение выборок выявило следующие достоверные различия между группами. У верующих с детства значимо выше показатели беспокойства потерять работу (U = 45; p < 0,05) и соблюдения требований священных книг (U = 206,5; p < 0,05).
Отсутствие значимых различий по ряду шкал между верующими и неверующими, схожесть ответов требует объяснения. На наш взгляд, здесь роль играют два основных фактора. Во-первых, содержание работы, проблемные ситуации, которые необходимо решать с помощью законодательства, что не позволяет получить большие различия. Во-вторых, следует учесть, что неверующие живут в соответствующей религиозной культуре дома (часть родственников может быть верующими), на работе, в местном сообществе. Таким образом, они скорее соотносят себя с православной культурой, чем с православной верой, тем самым определяют свою культурную самоидентификацию [15]. В исследовании женщин-мусульман используется термин «светские этнические верующие». Его же можно отнести и к нашей выборке неверующих [8].
Обнаружены достоверные различия по шкале «Внутренней религиозности» (χ2 = 9,311; p < 0,05): у верующих, посещающих заведения для богослужений ежемесячно, этот показатель значимо выше, чем у верующих, посещающих культовое сооружение не более 1 раза в год (U = 50; p < 0,05).
Верующие специалисты ООиП, демонстрирующие свою принадлежность к религии (носящие символ веры, регулярно посещающие культовые сооружения), по шкале «Потенциал сострадания» достоверно имеют более высокие показатели (U = 311; p < 0,05), но более низкие по шкале «Принятие риска» (U = 108,5; p < 0,05).
Значения шкалы «Внешняя религиозность» у мусульман оказались выше, чем у христиан. Можно предположить, что это обусловлено более четкой и жесткой регламентацией повседневной жизни.
Один из значимых вопросов для всех традиционных религий — обоснованность отобрания детей у родителей, в том числе при наличии угрозы здоровью и жизни ребенка. В настоящее время в федеральных и региональных нормативных правовых актах отсутствуют: прозрачность оснований и процедуры отобрания; четкие психолого-педагогические критерии оценки угрозы жизни и благополучию ребенка; четкие критерии ресурсности кровной семьи для оставления ребенка. В таких условиях неопределенности специалист опирается на собственный опыт и моральные ценности.
На вопрос анкеты «Как вы считаете, должна быть такая мера — отобрание ребенка у родителей?» положительно ответили 13,4% православных, 20,1% мусульман и 33,2% неверующих. Отрицательный ответ дали только 3,3% православных и 6,6% мусульман. Превалирующее большинство специалистов ООиП различных конфессий считают, что в крайних случаях отобрание ребенка у родителей необходимо (83,3%, 73,3% и 66,8% соответственно).
В табл. 3 приведены результаты сравнительного анализа ответов на вопрос анкеты верующих, по-разному ответивших на вопрос «Как вы считаете, должна быть такая мера — отобрание ребенка у родителей?», и их характеристики (Н-критерий Краскела — Уоллиса).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа ответов на вопрос
«Как вы считаете, должна быть такая мера — отобрание ребенка у родителей?»
Вопросы анкеты | Отобрание ребенка у родителей? | χ2 | p | ||
да | нет | в крайних случаях | |||
Соблюдаете ли требования | 23,65 | 49,67 | 30,73 | 5,338 | 0,069 |
Внутренняя религиозность | 40,25 | 7,83 | 29,87 | 8,262 | 0,016* |
Риск усталости от сострадания | 40,55 | 42,33 | 27,61 | 5,992 | 0,050* |
Риск выгорания | 38,8 | 27,83 | 28,9 | 2,725 | 0,256 |
Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05.
Те верующие, которые ответили положительно, имеют значимо более высокий уровень «Внутренней религиозности». Кроме того, на уровне тенденции они превосходят тех, кто ответил «в крайних случаях». Сама деятельность специалистов ООиП, вне зависимости от установок в отношении отобрания ребенка у родителей, приводит к достаточно высокому уровню риска усталости от сострадания.
Таким образом, верующие специалисты ООиП, имеющие тип религиозной ориентации «Внутренняя религиозность», считают, что детей можно отбирать у родителей, следовательно, можно предположить, что профессиональные интересы преобладают над конфессиональными убеждениями. Миссия специалиста ООиП важнее, чем религиозные установки. Но при этом страдают сами специалисты, увеличивая риски эмоционального выгорания.
Заключение
Полученные результаты показали, что не так важно, к какой религии относится специалист ООиП, ведь ценности, заложенные в них, во многом схожи в том, что касается отношения к детям и их семьям. Различия наблюдаются не столько в том, какую религию исповедует специалист, а в степени религиозности ее носителя.
Близость результатов для обеих выборок можно объяснить двумя основными факторами:
- ценность и целостность семьи для ребенка являются ключевыми в обеих конфессиях,
- специалист ООиП руководствуется в своей работе профессиональным стандартом, разработанным на основе российского законодательства, которое, в свою очередь, нацелено за защиту прав ребенка и сохранение для него кровной семьи.
Поэтому, несмотря на религиозные убеждения, специалисты обеих конфессий в самых крайних случаях принимают решение об отобрании ребенка у родителей в случае угрозы жизни и здоровья.
Отсутствие удовлетворенности профессиональной сферой деятельности выявлено у одинакового количества православных и мусульман (66,7%) и 50,5% неверующих. Вероятно, с этим связан достаточно высокий уровень текучести кадров.
В целом религия положительно влияет на решения специалистов ООиП и является для них дополнительным ресурсом. Подтверждением этого является тот факт, что большее число верующих специалистов ООиП (почти в 2 раза) способно адаптироваться к новым условиям и эффективно справляться с различными сложными ситуациями, быстро приходить в норму или восстанавливаться после воздействия стресса по сравнению с неверующими.
Результаты исследования могут быть полезны в работе психологов с сотрудниками ООиП, представляющими различные религиозные конфессии. Они могут быть использованы для более эффективной разработки программ обучения специалистов ООиП, которые помогут им повысить уровень профессиональных навыков и знаний в области взаимодействия с представителями разных конфессий.
Повышение квалификации специалистов ООиП с учетом современных вызовов (усиление традиционных семейных ценностей, изменение законодательства в сфере защиты прав детей, ориентация государственной политики на сохранение ребенка в кровной семье, социально-экономическая ситуация и пр.) сегодня является одной из важных задач Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного Правительством Российской Федерации.
Дальнейшие исследования следует продолжать в области разработки конфессиональных компетенций специалистов, которые должны закрепить уважительное, толерантное отношение к детям и семьям, исповедующих религию, отличную от религии специалиста.
Авторы статьи придерживались этических норм, изложенных в кодексе этики научных публикаций, и с уважением относятся к верующим всех конфессий.
Galina Vladimirovna Semya
Moscow State University of Psychology and Education
Email: gvsemia@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9583-8698
SPIN-code: 4761-6273
Russian Federation, Moscow Doctor of Psychology, Professor of the Department of Developmental Psychology named after Professor L.F. Obukhova" Faculty of Educational Psychology,
Isakova Mikhailovna Yulia
Administration of the Mezhgorye, District of the Republic of Bashkortostan;Moscow State University of Psychology and Education
Author for correspondence.
Email: julia2491@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7966-478X
Russian Federation, Mezhgorye, Republic of Bashkortostan
Moscow Сhief Specialist of the Guardianship and Trusteeship Service of Administration of the Mezhgorye, District of the Republic of Bashkortostan;
MA in Psychology
- Belova E.V., Afanasenko I.V., Zinchenko E.V., Brovar' A.V., Kobylyanskaya L.I., Samoilova I.G. Osobennosti religioznosti predstavitelei professii ekstremal'nogo profilya (na primere pozharnykh) [Features of religiosity of representatives of professions of an extreme profile (on the example of firefighters)]. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal [Russian Psychological Journal], 2016. Vol. 13, no. 4, pp. 16–35. doi: 10.21702/rpj.2016.4.1 (In Russ.).
- Bychkova M.V. Stanovlenie ponyatiya «pomogayushchie professii» v istoricheskom i sotsiokul'turnom kontekste [The formation of the concept of “helping professions” in the historical and socio-cultural context]. Chelovek i obrazovanie [Man and Education], 2020, no. 2(63), pp. 156–160. doi: 10.54884/S181570410020803-8 (In Russ.).
- Guzel'baeva G.Ya. Studenty-mediki i rabota v «krasnoi zone» vo vremya pandemii COVID-19: imeet li religiya znachenie? [Medical students and work in the “red zone” during the pandemic COVID-19: Does religion matter?]. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Ability], 2023, no. 4, pp. 125–135. doi: 10.17805/zpu.2023.4.11. (In Russ.).
- Zimova N.S., Belousova Yu.V. Religioznost' kak faktor trudovogo povedeniya zhenshchin [Religiosity as a factor of women's labor behavior]. Sotsiologiya religii v obshchestve pozdnego moderna [Sociology of religion in Late Modern society], 2023. Vol. 12, no. 2, pp. 29–36. (In Russ.).
- Kozlova E.G. Religioznaya etika kak osnova formirovaniya professional'noi identichnosti lichnosti [Religious ethics as the basis for the formation of professional identity of a person]. Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem [Modern studies of social problems], 2015, no. 6, pp. 655–665. doi: 10.12731/2218-7405-2015-6-55 (In Russ.).
- Kokoeva R.T. Funktsii religii kak sotsial'nye translyatory vzaimodeistviya lichnosti i obshchestva [The functions of religion as social translators of the interaction of personality and society]. Zhurnal nauchnykh statei Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke [Journal of scientific articles Health and education in the XXI century], 2016. Vol. 18, no. 7, pp. 162–164. (In Russ.).
- Lashkul M.V. Kratkoe opisanie kursa dopolnitel'noi professional'noi programmy «Podgotovka spetsialistov, osushchestvlyayushchikh obuchenie po dopolnitel'nym professional'nym programmam rabotnikov organov opeki i popechitel'stva, v tom chisle s ispol'zovaniem distantsionnykh tekhnologii» [Elektronnyi resurs] [Brief Description of the Course of the Additional Professional Program “Training of Specialists Who Carry Out Training on Additional Professional Programs for Employees of Guardianship and Guardianship Bodies, Including Using Remote Technologies”]. Sotsial’nye nauki i detstvo = Social Sciences and Childhood, 2022. Vol. 3, no. 1, pp. 79–88. doi: 10.17759/ssc.2022030106. (In Russ., аbstr. in Engl.).
- Minullina A.F., Murtazina E.I. Psikhologiya semeinykh reprezentatsii v kontekste konfessial'noi prinadlezhnosti [Psychology of family representations in the context of religious affiliation]. Filologiya i kul'tura [Philology and culture], 2013, no. 3(33), pp. 317–321. (In Russ.).
- Sem'ya G.V., Lashkul M.V. (Eds.). Nastol'naya kniga spetsialista organa opeki i popechitel'stva v otnoshenii nesovershennoletnikh (metodicheskoe soprovozhdenie deyatel'nosti spetsialista) [The desktop book of the specialist of the guardianship and guardianship authority for minors (methodological support of the specialist's activities), compiled by: Semya G.V., Lashkul V.] Moscow: ANO Tsentr razvitiya sotsial'nykh proektov [Center for the Development of Social Projects], 2021. 434 p. (In Russ.).
- Oslon V.N., Sem'ya G.V., Zinchenko E.A. Model' professional'noi podgotovki rabotnikov organov opeki i popechitel'stva v otnoshenii nesovershennoletnikh v usloviyakh profil'noi magistratury [Elektronnyi resurs] [Model of Vocational Training for Employees of Guardianship and Custody Bodies in Relation to Minors in Specialized Master' Degree Programme]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2019. Vol. 9, no. 3, pp. 112–126. doi: 10.17759/psylaw.2019090309 (In Russ., аbstr. in Engl.).
- Paramuzov A.V. Religioznost' i vospriyatie psikhologicheskogo vremeni na vyborke musul'man, khristian i ateistov [Religiosity and perception of psychological time in a sample of Muslims, Christians and atheists]. Islamic Studies, 2019, no. 12(1), pp. 267–283. doi: 10.31162/2618-9569-2019-12-1-267-283 (In Russ.).
- Petrenko S.P. K voprosu o terminakh «Konfessiya» i «konfessional'naya obshchnost'» [On the issue of the terms “Confession” and “confessional community”]. Vestnik Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta [Bulletin of the Taganrog State Pedagogical Institute], 2007, no. 2, pp. 23–28. (In Russ.).
- Potashinskaya N.N. Religii o problemakh truda [Religions on labor problems]. 777. Sova, 2017, no. 4(35), pp. 188–207. (In Russ.).
- Prikaz Mintruda Rossii ot 06.09.2023 № 691n «Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Spetsialist organa opeki i popechitel'stva v otnoshenii nesovershennoletnikh» (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 29.09.2023 № 75411) [Elektronnyi resurs] [Order of the Ministry of Labor of Russia dated 09/06/2023 691n “On approval of the professional standard “Specialist of the guardianship and guardianship authority for minors” (Registered with the Ministry of Justice of Russia on 09/29/2023 No. 75411)]. Konsul'tantPlyus [ConsultantPlus], 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458736/ (Accessed 05.11.2024). (In Russ.).
- Pronina T.S. Religioznost' sovremennykh rossiyan: smena form ili soderzhaniya? [Religiosity modern Russians: a change of forms or content?]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Tambov University Review. Series: Humanities], 2012, no. 9 (113), pp. 312–319. (In Russ.).
- Sem'ya G.V., Karnaukh I.S., Shul'ga T.I. Obuchenie vzroslykh: razrabotka programm povysheniya kvalifikatsii dlya spetsialistov organov opeki i popechitel'stva i apparatov upolnomochennykh po pravam rebenka [Elektronnyi resurs] [Development of Professional Development Programs for Specialists of Guardianship and the Offices of the Commissioners for the Rights of the Child]. Sotsial’nye nauki i detstvo = Social Sciences and Childhood, 2022. Vol. 3, no. 1, pp. 7–22. doi: 10.17759/ssc.2022030101 (In Russ., аbstr. in Engl.).
- Sem'ya G.V., Lashkul M.V., Yarovikova O.A. Kompleksnyi podkhod k professional'nomu razvitiyu spetsialistov organov opeki i popechitel'stva v otnoshenii nesovershennoletnikh [Comprehensive Approach to the Professional Development of Specialists of Guardianship and Guardianship Authorities in Relation to Minors]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2022. Vol. 27, no. 6, pp. 170–182. doi: 10.17759/pse.2022270613 (In Russ., аbstr. in Engl.).
- Bakker A.B., Gospels D. Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 2017. Vol. 22, no. 3, pp. 273–285. doi: 10.1037/ocp0000056
- Ferguson H. How social workers reflect in action and when and why they don’t: the possibilities and limits to reflective practice in social work. Social Work Education, 2018. Vol. 37, no. 4, pp. 415–427. doi: 10.1080/02615479.2017.1413083
- Fook J. Uncertainty: the defining characteristic of social work? In Cree V. (Ed.). Social Work: A textbook. London: Routledge, 2011, pp. 30–39. doi: 10.4135/9781446247167.n4
- Hood R.W., Hill P.C., Spilka B. The psychology of religion: An empirical approach. 4th ed. New York: Guilford Press, 2009, 636 p.
- Radey M., Wilke D.J. The Importance of Job Demands and Supports: Promoting Retention Among Child Welfare Workers. Child and Adolescent Social Work Journal, 2021. Vol. 40, pp. 57–69. doi: 10.1007/s10560-021-00762-z
Views
Abstract - 0
PDF (Russian) - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.