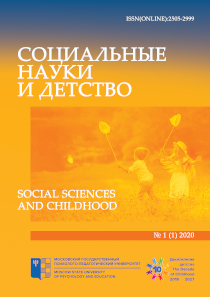The right of a child to express an opinion in disputes concerning the restriction and deprivation of parental rights of his parents, cancellation of restriction and restoration of parental rights: problems of implementation
- Authors: Tarasova A.
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 55-72
- Section: Safety & Law
- URL: https://editorial.mgppu.ru/ssc/article/view/3812
- DOI: https://doi.org/10.17759/ssc.2025060103
- Cite item
Abstract
Context and relevance. An important aspect of the modern familysaving model for regulating family relations should be the finding of a balance between the realization of the child's right to express his or her opinion on all matters affecting them, including procedural opportunity in administrative and judicial processes (Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child), on the one hand, and the family situation, including the voice of adult family members, on the other hand. Objective. The work is aimed at identifying the peculiarities of the child's expression of opinion in disputes about his upbringing, concerning the restriction and deprivation of parental rights of his parents, as well as the abolition of restrictions and restoration of parental rights. Hypothesis. The expression of a child's opinion is important in situations involving the realization, loss and protection of their birth parents' rights. Identifying the views of the child of different ages and degrees of maturity requires a professional and independent approach, special techniques and procedures that take into account the mutual nature of children's and parents' rights and the possibility of preserving or restoring the child-parent relationship. Methods and materials. The analysis of legislation in regulating the institute of restriction and deprivation of parental rights, cancellation of restrictions and restoration of parental rights has shown that the norms of the Family Code of the Russian Federation and the Code of Civil Procedure of the Russian Federation are not coordinated with each other in terms of material and legal value and procedural realization of the child's opinion (consent) in significant disputes concerning his upbringing. Law enforcement practice deals with this problem in different ways, but the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation and summaries of practice are insufficient to fully ensure the fulfillment of the child's conventional right to express his or her opinion in cases of parental custody loss. Results. The results of the study showed that there is a significant gap in the issue of identifying the child's opinion in the process of restricting and depriving the children's relatives of parental rights, as well as in the parents' defense of their own rights, including the cancellation of the restriction and restoration of parental rights and the return of the child to the family. Conclusions. It is shown that the identification of the child's opinion in disputes about his upbringing has both material and procedural significance and specificity, and requires the development of a methodology for working with child-parent relations and an independent expert approach. It is proposed to develop special procedures for identifying and taking into account the child's opinion in order to develop formats for preserving and restoring child-parent relations.
Введение
По итогам проведенных в 2024 году 30-летия Международного года семьи[1] и национального российского года семьи[2] обозначены новые направления социальной защиты семьи и повышения ее экономических возможностей[3]. С 2025 года в Российской Федерации стартовал Национальный проект «Семья», целью которого является увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей. В рамках национального проекта предусмотрена реализация федеральных проектов: поддержка семьи, многодетная семья, охрана материнства и детства, старшее поколение, семейные ценности и инфраструктура культуры[4]. В связи с обозначенными направлениями существенное значение приобретает проблема совершенствования правового регулирования вопросов ограничения и лишения родителей родительских прав, отмены ограничения и восстановления в родительских правах, защиты родителями своих родительских прав, развитие правоприменительной практики по такой категории дел с учетом приоритетов семьесбережения и поддержки кровной семьи. Актуальным представляется новый взгляд на проблему выражения несовершеннолетним своего мнения в спорах о воспитании, связанных с разлучением ребенка и родителей, восстановлением детско-родительских отношений.
В рамках исполнения обязательств государства по Конвенции ООН о правах ребенка в Комитет по правам ребенка ООН в 2024 году Российской Федерацией были представлены подготовленные ответы на перечень вопросов в связи с объединенными шестым и седьмым периодическими докладами[5].
В п. 80 Ответов Российской Федерации отмечается, что «дети являются особым субъектом гражданских процессуальных правоотношений, к ним применимы положения процессуального законодательства, относящиеся к лицам, участвующим в деле. Ребенок выступает полноправным участником судопроизводства, наделен равными правами и обязанностями, что способствует полной реализации его права на судебную защиту. Допуская несовершеннолетнего в гражданский процесс, законодатель проводит не только градацию по возрасту, но и устанавливает его статус как участника процесса и определяет правоотношения, которые непосредственно его затрагивают. В силу закона несовершеннолетний может самостоятельно участвовать в судебном процессе со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации). Также с 14 лет по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, лично защищает в суде свои права, свободы и законные интересы. При этом суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. Таким образом, национальное процессуальное законодательство не лишает и не ограничивает детей в возможности самостоятельно либо с участием законных представителей и государственных органов отстаивать свои законные интересы в судах»[6].
Процессуальное участие несовершеннолетних в спорах, касающихся их воспитания и связанных с применением довольно серьезных мер к их законным представителям – родителям в виде ограничения или лишения родительских прав, может быть выражено в двух формах: 1) выражение мнения, включая согласие или несогласие на принятие решения, связанного с разлучением и воссоединением с родителями; 2) заявление иска. Право голоса ребенка имеет два измерения: материально-правовое и процессуальное.
Особенности реализации права ребенка на голос в семейных спорах требуют специального регулирования, как в нормах материального семейного права, так и на уровне процессуальных регламентов в гражданском процессуальном законодательстве[7]. Право ребенка на голос в семейных спорах рассматривается нами как объединяющее право на выражение своих взглядов (ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка) и право на выражение своего мнения (ст. 13 Конвенции ООН о правах ребенка) в материально-правовом и процессуальном значении, что позволяет устранить процессуальные пробелы и неточность материально-правового закрепления. В юридической литературе обращается внимание на несовпадение содержания права ребенка на мнение, закрепленное ст. 57 СК РФ, конвенционному праву на мнение (ст. 13 Конвенции ООН о правах ребенка) и тождественность этого права с конвенционным правом ребенка на взгляды (ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка) (Максимович, 2024).
Представляется, что в силу повышения социальной роли семьи в современных условиях как на международном, так и на национальном уровне, закрепления государственных приоритетов Российской Федерации в области семейной политики на конституционном уровне, включения традиционных семейных ценностей в систему традиционных российских духовно-нравственных ценностей[8] и в качестве элемента публичного порядка Российской Федерации (статья 6 Семейного кодекса Российской Федерации), подходы к реализации права ребенка на мнение и выражение собственных взглядов должны учитывать развитие комплекса мер по работе с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, развитие технологий по восстановлению детско-родительских отношений. Кроме того, права родителей и детей имеют взаимный характер, и семейное законодательство закрепляет защиту родительских прав (ст. 68 СК РФ)[9].
Материалы и методы
В целом вопросам изучения мнения ребенка в правовой литературе давно уделяется серьезное внимание, следует отметить исследования, имеющие семейно-правовую (Ильина, 2018; Максимович, 2018; Максимович, 2005), комплексную – гражданско-правовую и семейно-правовую (Савельева, 2004; Тарасова, 2008), гражданско-процессуальную направленность (Кравчук, 2004; Кравчук, 2022; Яковлев, 1978). Имеются исследования общих вопросов порядка и пределов осуществления права ребенка на выражение мнения (Ульянова, 2022); работы, учитывающие практику международных органов по защите прав для изучения права ребенка на выражение мнения в национальном праве (Ульянова, 2023); исторические исследования, посвященные формированию судебной практики учета мнения и интересов ребенка в советский период, до закрепления такого права в семейном законодательстве Российской Федерации (Бурданова, 2024).
Особое значение приобретают междисциплинарные исследования вопросов реализации права ребенка на голос в семейно-правовых отношениях (Ильина, Русаковская, Туманова, Чубарова, 2022), что связано с особым – в семейном праве – определением возрастных пределов ребенка для принятия решений, а также оказываемым на несовершеннолетнего влиянием со стороны значимых взрослых, выступающих субъектами спора.
Междисциплинарные исследования необходимы для более углубленного изучения психофизиологических особенностей несовершеннолетнего и процесса формирования его мнения по вопросам его воспитания не только для споров между родителями о праве опеки и праве доступа к ребенку (определении места жительства несовершеннолетнего при разводе родителей, установлении порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя).
На наш взгляд, особую актуальность исследование проблемы формирования у ребенка самостоятельного мнения и возможности его относительно объективного выражения имеет в условиях изменения социальной реальности, связанной с развитием альтернативных форм устройства детей, чьи родители ограничены или лишены родительских прав. Семейное законодательство к семейным формам устройства ребенка относит, в частности, передачу несовершеннолетнего на воспитание под опеку или попечительство, в приемную семью. Государство оказывает значительную поддержку семейным формам устройства детей на воспитание, что является положительной тенденцией, направленной на обеспечение детям, оставшимся без попечения родителей, семейного окружения. В то же время актуализируется проблема баланса поддержки различных форм семьи, включая применение эффективных технологий восстановления детско-родительских отношений в кровной семье. Согласие и мнение несовершеннолетнего ребенка в указанных вопросах приобретает решающее значение и нуждается в комплексном изучении.
Следует отметить недостаточность специальных исследований, посвященных проблематике выяснения мнения ребенка в делах об ограничении и лишении родительских прав, отмене ограничения и восстановлении родительских прав, защите родительских прав, а также оценке правового значения и достоверности мнения ребенка при разлучении с кровными родителями. Не разработаны методики и рекомендации по выявлению мнения ребенка в таких спорах. При этом наблюдается практическая диспропорция в определении значения мнения ребенка: пренебрежение таковым при решении вопроса об ограничении и лишении родительских прав, интерес ребенка, как и опасность оставления с родителями определяется уполномоченными организациями и органами власти; и напротив, придание определяющего значения мнению ребенка при решении вопроса отмены ограничения и восстановления родительских прав, возвращения к кровным родителям. Мнение (согласие или несогласие ребенка) о возвращении к кровным родителям при отмене ограничения или восстановлении родительских прав и порядок его определения не обусловлены проведением подготовительных мероприятий к восстановлению детско-родительских отношений, адаптацией ребенка, особенностями его временного устройства на период утраты родительского попечения, причинами утраты такого попечения.
В работе использован анализ материалов судебной практики высших судов по делам об ограничении и лишении родительских прав, как обобщения судебной практики, так и судебные акты по отдельным делам.
Результаты
Право ребенка на выражение мнения по вопросам, его затрагивающим, закреплено в международной и национальной системе прав ребенка. На универсальном уровне в числе основных прав ребенка право выражать свои взгляды (ст. 12) и мнение (ст. 13) закреплено в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года. Взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. При этом государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка (ст. 12)[10].
Это означает, что мнению (голосу) несовершеннолетнего придается юридическое значение, степень которого в определенных отношениях, затрагивающих права ребенка, может различаться в зависимости от зрелости и возраста несовершеннолетнего. Как правило, установление правового значения мнения ребенка с учетом его возраста является прерогативой государств-участников Конвенции и сферой национального усмотрения. В тех вопросах, в которых национальный законодатель не достиг определенности, пробелы восполняют судебные, административные, иные правоприменительные органы, организации и лица, сталкивающиеся с реализацией и защитой прав детей, применяя положения Конвенции наиболее широким образом, без условий ограничения по возрасту в вопросе выяснения взглядов несовершеннолетнего.
Конвенция о правах ребенка предусматривает материально-правовой и процессуальный аспекты реализации права ребенка на выражение мнения.
С материально-правовой стороны можно выделить следующие характеристики рассматриваемого права ребенка:
- отношения, связанные с участием несовершеннолетнего либо затрагивающие его права – все вопросы, затрагивающие ребенка;
- возраст и зрелость несовершеннолетнего ребенка (объем дееспособности ребенка, позволяющий участвовать в определенных отношениях и выражать в них свое мнение, от которого зависят правовые последствия).
Процессуально-правовой аспект права ребенка на выражение взглядов связан с возможностью участия несовершеннолетнего в судебных и несудебных процедурах и реализацией права на защиту.
Конвенция о правах ребенка с целью полноценной реализации права ребенка на выражение взглядов предусматривает необходимость представления возможности быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.
В российском праве оба аспекта реализации права ребенка на выражение его мнения находят закрепление. В Семейном кодексе Российской Федерации право ребенка выражать свое мнение предусмотрено статьей 57 (в большей степени оно корреспондирует ст. 12 Конвенции о праве на выражение взглядов), содержащей одновременно и материально-правовое, и процессуальное значение мнения несовершеннолетнего, выделяя отдельно такую разновидность выражения мнения, как согласие ребенка. Это связано с отсутствием в процессуальном законодательстве специальных регламентов рассмотрения споров о воспитании детей и, в частности, связанных с ограничением и лишением родительских прав, отменой ограничения и восстановлением родительских прав, возвращением ребенка родителям.
Согласно нормам семейного законодательства ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам[11]. Данное положение очень близко по значению к конвенционному и позволяет более гибко подходить к определению возрастного ограничения или степени зрелости несовершеннолетнего. В этом отношении положения семейного законодательства отличаются от гражданского, установившего конкретные объемы дееспособности ребенка и их изменение в связи с достижением определенного возраста, различая дееспособность малолетнего ребенка (ст. 28 ГК РФ) и дееспособность ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ).
В то же время в случаях, предусмотренных СК РФ, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. К случаям, в которых принятие решения возможно только с согласия достигшего десяти лет ребенка, закон относит: изменение имени и фамилии ребенка; восстановление родителей ребенка в родительских правах; усыновление ребенка; изменение имени, фамилии и отчества усыновленного ребенка; запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка; реализацию последствий отмены усыновления ребенка, в частности, передачу ребенка родителям; установление опеки и попечительства в отношении ребенка. Следует обратить внимание, что случаи ограничения, лишения родительских прав, отмены ограничения родительских прав, возращения ребенка родителям не отнесены семейным законодательством к категории тех дел, по которым необходимо не просто учитывать мнение несовершеннолетнего, но и получить его согласие.
Право на защиту несовершеннолетнего также регламентировано СК РФ, содержащим и определенные процессуальные положения его практической реализации (ст. 56). Семейное законодательство исходит из права ребенка на защиту в том числе и от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При этом формы защиты могут быть условно разделены на инициативные (обращение самого несовершеннолетнего с жалобой или иском в юрисдикционный орган) и опосредованные – выражение мнения несовершеннолетнего в процессе, затрагивающем его права, например, несогласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на восстановление в отношении него родителей, лишенных родительских прав. Такое деление является условным, поскольку обе формы относятся к активным действиям самого ребенка, и обращение несовершеннолетнего с жалобой или в суд за защитой своего права можно отнести к разновидности выражения им своих взглядов по вопросу, касающемуся его прав и выражения его мнения.
СК РФ предусматривает, что при нарушении прав и законных интересов ребенка, в т.ч. при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
В гражданском процессуальном законодательстве содержится общее положение о процессуальной дееспособности несовершеннолетнего и отсутствуют специальные нормы, регламентирующие рассмотрение конкретных семейно-правовых споров, в которых могли быть предусмотрены особые процедуры реализации ребенком своего права на выражение мнения или согласия, особенно в тех спорах, для разрешения которых согласие ребенка имеет решающее значение.
По общему правилу согласно ГПК РФ права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их законные представители. Суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних (п. 3 ст. 37). В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних (п. 4 ст. 37). Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Суд вправе привлечь к участию в таких делах граждан, признанных недееспособными (п. 5 ст. 37). О привлечении к участию малолетних детей в законе ничего не говорится.
В юридической литературе отмечается, что примеры привлечения малолетних в качестве третьих лиц в судебной практике отсутствуют, в то время как их процессуальный статус остается неопределенным (Максимович, 2024).
Анализ общих положений о гражданской процессуальной дееспособности, закрепленных в ГПК РФ, позволяет выделить ряд пробелов:
- нормы о процессуальной дееспособности сконструированы аналогично положениям о дееспособности физических лиц в ГК РФ, несовершеннолетние разделены на две возрастные группы: малолетние и дети в возрасте от 14 до 18 лет;
- категории дел, по которым несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, вправе выступать истцами и самостоятельно защищать свои права в суде, шире, чем гражданские дела, они включают в себя и семейно-правовые споры. В то время как в семейном праве разделение детей по возрасту и значимости их мнения (взглядов) по вопросам, их касающимся, отличается и от объема гражданской, и от объема гражданской процессуальной дееспособности;
- нормы ГПК РФ не предусматривают привлечение к участию в деле малолетних детей;
- нормы ГПК РФ не регламентируют процедуру выяснения мнения ребенка в спорах, касающихся его прав, этот вопрос не урегулирован и в СК РФ;
- закрепление процессуальных особенностей разрешения вопросов ограничения и лишения родительских прав, отмены ограничения и восстановления родительских прав, возвращения ребенка родителям взял на себя СК РФ, но реализовано это не в полной мере;
- для отдельных процедур, например, ограничения и лишения родительских прав, а также отмены ограничения и восстановления родительских прав, возвращения ребенка в семью – в семейном законодательстве Российской Федерации по-разному решен вопрос о мнении/согласии ребенка, его учете и значении;
- некоторые разъяснения дает ВС РФ, однако они не формируют системный подход к решению вопроса о мнении/согласии ребенка в спорах, связанных с ограничением/лишением родительских прав, отменой ограничения/восстановлением родительских прав, возвращением ребенка в семью, в ряде случаев разъяснения носят расширительный характер и являются спорными с позиции комплексного подхода к семье и решения проблем восстановления детско-родительских отношений.
Следует отметить, что специально в положениях ст. 70 СК РФ (порядок лишения родительских прав), ст. 73 (ограничение родительских прав), ст. 75 (контакты ребенка с родителем, родительские права которого ограничены судом) ничего не говорится о мнении ребенка и порядке его определения. В то же время в ст. 72 (восстановление родительских прав) и ст. 76 (отмена ограничения родительских прав), а также в ст. 68 (защита родительских прав посредством требования о возврате ребенка) имеются специальные положения о необходимости выяснения мнения ребенка и даже в некоторых случаях получения его согласия (восстановление родителей в родительских правах).
Восполняет этот пробел и отсутствие закрепленных в законе форм участия несовершеннолетних в делах рассматриваемой категории Верховный суд Российской Федерации, указывая, что «при рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав, отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах судам следует учитывать положения статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, в соответствии с которыми ребенок вправе свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. С учетом положений названных норм ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом следует учитывать, что решение о восстановлении в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом только с согласия ребенка (статья 57, пункт 4 статьи 72 СК РФ)»[12].
Несмотря на наличие указанного разъяснения ВС РФ, процессуальное законодательство (п. 5 ст. 37 ГПК РФ) не предусматривает привлечение к участию в судебное дело малолетнего ребенка, при том, что согласно семейному законодательству (п. 4 ст. 72 СК РФ) восстановление родителей в родительских правах возможно только с согласия ребенка.
В семейном и процессуальном законодательстве Российской Федерации отсутствуют положения об особенностях разрешения квазисемейных споров между кровными родителями и приемными родителями или опекунами/попечителями, такая категория споров не находит своего закрепления. Исключительно ВС РФ в приведенном Постановлении Пленума ВС РФ № 44 (п. 23) дается толкование по вопросу, кто выступает ответчиками по иску родителя об отмене ограничения или восстановлении родительских прав – приемные родители, опекун/попечитель или орган опеки и попечительства (если устройство ребенка в семейную форму еще не осуществлено). Назначение специализированных экспертных исследований для правильного разрешения подобных споров, а также для выявления и оценки мнения ребенка законодательно не регламентировано. Экспертный подход стал применяться в спорах о воспитании между родителями, в частности, о месте жительства ребенка, о чем имеются разъяснения ВС РФ, например, Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей[13].
Кроме того, в названном Обзоре применительно к спорам о воспитании ребенка между родителями приводятся возможные процессуальные формы выяснения мнения ребенка, в частности, указывается, что «мнение ребенка о том, с кем из родителей он желает проживать, выявляется, как правило, органами опеки и попечительства, составляющими акты обследования жилищно-бытовых условий и соответствующие заключения. Кроме того, мнение ребенка выявлялось также педагогами или воспитателями детских учреждений по месту учебы или нахождения ребенка, социальными педагогами школы, инспекторами по делам несовершеннолетних, в ходе проведения амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы либо диагностического обследования в центрах психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков. Несовершеннолетние дети, достигшие возраста десяти лет, опрашивались также непосредственно судом в судебном заседании. Такой опрос производился в присутствии социального педагога либо классного руководителя, эксперта-психолога. Между тем в протоколах судебных заседаний не всегда содержится информация о том, в присутствии каких лиц производился такой опрос, судами не всегда отражаются сведения о присутствии педагога при опросе, а данные о том, удаляются ли из зала судебного заседания при опросе ребенка заинтересованные лица, в протоколах и вовсе содержатся редко. Выявлены случаи, когда суд в нарушение действующего российского и международного законодательства выносил решение, не выясняя мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, о том, с кем из родителей он хочет проживать»[14].
На примере обобщения практики, состоявшегося более 10 лет назад, можно увидеть, что отмеченные нарушения и различия в процедуре являются следствием отсутствия в процессуальном законодательстве необходимых регламентов разрешения столь важных социальных споров. Еще более серьезной ситуация представляется в делах об ограничении/лишении родительских прав, отмене ограничений и восстановлении родительских прав, возвращении ребенка родителям.
Как отмечают некоторые авторы, процедуры, связанные с лишением родительских прав, безусловно, требуют более деликатного разрешения. Выяснение мнения несовершеннолетнего целесообразно осуществлять с помощью привлечения органов опеки и попечительства вне судебного заседания, в присутствии педагога-психолога, в бесконфликтной обстановке, исключающей влияние заинтересованных лиц (Чащина, Зенцова, 2020).
Несмотря на то, что СК РФ предусматривает необходимость получения согласия ребенка только на восстановление родителей в родительских правах (ст. 72 СК РФ), а при отмене ограничения родительских прав предусматривается учет мнения несовершеннолетнего (ст. 76 СК РФ), ВС РФ дает расширительное толкование процедуры учета мнения и интересов ребенка, допуская при удовлетворении иска родителей об отмене ограничения родительских прав невозвращение ребенка в семью, применяя подход ст. 68 СК РФ (п. 24 ПП ВС РФ № 44).
По существу, даже в тех ситуациях, когда родителям удается отменить ограничения родительских прав и дело еще не дошло до лишения родительских прав, вернуть своего ребенка они могут не во всех случаях, оценка этих обстоятельств остается исключительно в сфере усмотрения судебных органов. При этом ограничение родительских прав не всегда выступает мерой семейно-правовой ответственности и может применяться при невиновном поведении родителей по обстоятельствам, которые от них не зависят. К сожалению, и семейное законодательство Российской Федерации не содержит порядка и последовательности применения мер в виде ограничения и лишения родительских прав, а ограничение родительских прав по виновным основаниям зачастую остается бессрочной мерой, не завершающейся дельнейшим лишением родительских прав (Лашкул, Тарасова, 2023). Неясным образом определены и правовые последствия отмены ограничения и восстановления родительских прав. Подобное положение дел не отвечает приоритетам государственной политики в области семьи.
И, наконец, еще один вопрос, имеющий различные толкования, – это выражение ребенком мнения в семейных отношениях в наиболее активной форме, посредством самостоятельного предъявления иска к родителям об ограничении или лишении их родительских прав. Специальное, посвященное данной категории споров, Постановление Пленума ВС РФ № 44 не касается данного вопроса. Разъяснение в части возможности предъявления иска ребенком к своему родителю о лишении его родительских прав содержится в приведенном более общем Обзоре судебной практики ВС РФ по спорам о воспитании детей. ВС РФ отметил, что «в ряде случаев суды отказывали в принятии исковых заявлений о лишении родительских прав, если они подавались несовершеннолетними детьми, со ссылкой на то, что они не относятся к кругу лиц, указанных в п. 1 ст. 70 СК РФ, которые могут обращаться с данным иском в суд. Такую практику судов вряд ли можно признать правильной по следующим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд. Учитывая это, п. 1 ст. 70 СК РФ, определяющий круг лиц и органов, имеющих право предъявлять требование о лишении родительских прав, необходимо применять в совокупности с названной нормой. В указанной ситуации суду, исходя из интересов ребенка, следует довести до сведения соответствующего органа опеки и попечительства об имеющемся деле и привлечь его к участию в этом деле».
Возможно ли использовать такой подход по аналогии в случае ограничения родительских прав, учитывая, что при рассмотрении иска о лишении родительских прав суд может с учетом принципа процессуальной экономии ограничить родителя в правах? Вероятно, ответ должен быть положительным. Однако он не снимает всех иных, социальных, этических, психологических вопросов, связанных с активной правовой позицией несовершеннолетних в отношении применяемых ими мер к своим родителям, особенно это касается ситуаций, когда между родителями имеется семейно-правовой спор и ребенок становится его заложником.
Обсуждение результатов
По итогам проведенного анализа можно сформулировать следующие предложения нормативного и правоприменительного характера:
- требуется определить процессуальные регламенты в ГПК РФ разрешения споров о воспитании детей, в частности по делам об ограничении/лишении родительских прав, отмене ограничения/восстановлении родительских прав, защите родительских прав и возвращении ребенка родителям, с установлением специальных дружественных по отношению к ребенку и основанных на экспертном подходе (назначение специализированных экспертиз, включая комплексные) способов выяснения мнения и взглядов несовершеннолетнего;
- специальные процессуальные регламенты должны учитывать возможности профилактической и восстановительной работы с семьей и адаптацию к их результатам порядка выяснения и оценки мнения и взглядов ребенка в спорах, связанных с утратой и возвращением родительских прав родителей несовершеннолетнего ребенка;
- необходимо внести изменения в п. 5 ст. 37 ГПК РФ и определить необходимость привлечения к участию в деле малолетнего ребенка для выяснения его мнения, учитывая, что согласно нормам СК РФ восстановление родителей в родительских правах возможно только при наличии на это согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. Положения о гражданской процессуальной дееспособности ГПК РФ должны быть приведены в соответствие с нормами СК РФ;
- в законодательном уточнении нуждается такое основание лишения родительских прав, как злоупотребление родительскими правами, включая порядок его применения по делам о лишении родительских прав по иску одного родителя к другому, как и особенности учета мнения ребенка при конфликте интересов в семье и процессуальном представительстве. В настоящее время имеет место тенденция злоупотребления исками со стороны заявителей о лишении родительских прав по основанию злоупотребления родительскими правами родителем – ответчиком, для предъявления таких исков родители используют и самих несовершеннолетних детей, не исчерпав иные способы разрешения внутрисемейного конфликта – практика и нормы СК РФ в этом вопросе требуют кардинального изменения, поскольку являются разрушительными для института семьи. Споры по такой категории рассматриваются годами[15], что негативно сказывается на интересах ребенка, благополучии семьи и подрывает доверие к системе ориентированного на семью правосудия.
Заключение
По итогам исследования необходимо определить в качестве одного из важных и новых направлений для изучения правовой науки и междисциплинарных областей – порядка и особенностей разрешения споров в отношении детей, связанных с ограничением и лишением родителей родительских прав, отменой ограничения, восстановлением родительских прав, механизмов определения мнения ребенка в таких спорах для обеспечения достижения целей семейно-сберегающей модели правого регулирования.
Выражение мнения ребенка имеет важное значение в ситуациях, связанных с реализацией родителями родительских прав, защитой родительских прав, в т.ч. при утрате родителями своих прав вследствие административного или судебного отобрания ребенка. Выявление мнения ребенка с учетом его возраста и степени зрелости в случаях временной или постоянной утраты попечения родителей нуждается в применении независимого экспертного подхода, опирающегося на эффективные механизмы процессуальной и материально-правовой защиты прав ребенка, включая специальные процедуры, представительство ребенка в судебных и внесудебных органах.
Процедуры выявления мнения и получения согласия ребенка требуют разработки методики работы с детско-родительскими отношениями и применения восстановительных технологий, направленных на сохранение кровной семьи для ребенка, а не формального получения согласия или несогласия в отношении детско-родительского статуса.
По итогам исследования предложено привести в соответствие друг другу нормы материального семейного законодательства и гражданского процессуального законодательства в вопросах получения согласия ребенка и выражения им мнения по вопросам, связанным с судебным отобранием из семьи и возвращением ребенка кровным родителям.
[1] Resolution adopted by the General Assembly on 15 December 2022. (2022). United Nations. URL: https://docs.un.org/en/A/RES/77/191 (viewed: 16.03.2025).
[2] Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи». (2023). Официальное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013 (дата обращения: 16.03.2025).
[3] Обсуждение в рамках дискуссионного форума по вопросу о выполнении государствами своих обязательств согласно соответствующим положениям международного права прав человека в отношении роли семьи в поддержке защиты и поощрения прав человека ее членов. Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/HRC/58/44. 30.12.2024 г. (2024). ООН. URL: https://docs.un.org/ru/A/HRC/58/44 (дата обращения: 16.03.2025);
Подготовка и проведение тридцатилетнего юбилея Международного года семьи. Доклад Генерального секретаря ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/80/61–E/2025/11. 24.09.2024 г. (2024). ООН. URL: https://docs.un.org/ru/A/80/61 (дата обращения: 16.03.2025).
[4] Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». (2024). Гарант. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634/?ysclid=m8bk33u4jg562457881 (дата обращения: 16.03.2025).
[5] Российская Федерация является государством-участником Конвенции ООН о правах ребенка в качестве государства-продолжателя Союза ССР.
[6] Ответы Российской Федерации на перечень вопросов в связи с ее объединенными шестым и седьмым периодическими докладами в Комитет по правам ребенка ООН. GE.23-20597 (R) 021123 031123. Комитет по правам ребенка ООН. 2025. URL: https://undocs.org/ru/CRC/C/RUS/RQ/6-7 (дата обращения: 16.03.2025).
[7] Право ребенка на голос в семейных спорах рассматривается нами как право на выражение своих взглядов (ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка) и как право на выражение своего мнения (ст. 13 Конвенции ООН о правах ребенка) в материально-правовом и процессуальном значении.
[8] Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». (2022). Официальное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 16.03.2025).
[9] Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 23.11.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025). (2025). КонсультантПлюс. 2025. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 16.03.2025).
[10] Convention on the Rights of the Child. (1989). UNICEF. URL: https://www.unicef.org/child-rights-convention (дата обращения: 16.03.2025).
[11] Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 23.11.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025). (2025). КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 16.03.2025).
[12] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав». (2017). Верховный суд Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/24386/?ysclid=m8blfn17p07255470 (дата обращения: 16.03.2025).
[13] Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.07.2011). (2011). Верховный суд Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/documents/thematics/15101/?ysclid=m8bkx5ebqa539335618 (дата обращения: 16.03.2025).
[14] Там же.
[15] Определение Верховного суда Российской Федерации по делу № 78-КГ23-24-К3 от 29.08.2023 г. (2023). Верховный суд Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/11790026 (дата обращения: 16.03.2025);
Case of Ilya Lyapin v. Russia (Application no. 70879/11). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-{%22itemid%22:[%22001-203311%22]} (дата обращения: 16.03.2025).
Anna Tarasova
Author for correspondence.
Email: aet@bk.ru
Доцент, кандидат юридических наук
- Бурданова, Н.А. (2024). Учет мнения детей при разрешении споров об их воспитании: практика в Советской России и эволюция нормативного закрепления. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 1(101), 10—19. https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-1-10-19
Burdanova, N.A. (2024). Consideration of children's opinions in resolving disputes about their upbringing: practice in Soviet Russia and the evolution of normative consolidation. Vestnik of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1(101), 10—19. (In Russ.). https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-1-10-19 - Ильина, О.Ю. (2018). Мнение и согласие ребенка при рассмотрении споров о его воспитании: формы выражения и правовые последствия. В: Ребенок и правосудие: материалы всероссийской научно-практической конференции, Москва, 13 декабря 2018 г. (с. 66—71.). М.: Академия прикладной психологии и психотерапии.
Ilyina, O.Y. (2018). The child's opinion and consent when considering disputes about his upbringing: forms of expression and legal consequences. In: Child and justice: proceedings of the All-Russian Scientific and practical conference, Moscow, December 13, 2018 (pp. 66—71). Moscow: Academy of Applied Psychology and Psychotherapy Publ. (In Russ.).
Ilyina, O.Yu., Rusakovskaya, O.A., Tumanova, L.V., Chubarova, O.E. (2022). Some psychological and legal issues of mandatory consideration of the opinion of a child who has reached the age of ten years in judicial consideration of disputes about his upbringing. Psychology and Law, 12(3), 27— (In Russ.). https://doi.org/10.17759/psylaw.2022120303
Kravchuk, N.V. (2004). Defence of rights of children in judicial process. State and Law, 6, 66—73. (In Russ.). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17388983 (viewed: 16.03.2025).
Kravchuk, N.V. (2022). The right of the child to express view and the role of courts in its implementation in Russia. In: Modern challenges and ways to solve problems in the field of child rights protection: implementation of the principles of the Convention on the Rights of the Child: proceedings of the II All-Russian Scientific and Practical Conference, Yekaterinburg, November 17, 2022 (pp. 29—33). Yekaterinburg: Russian State Vocational Pedagogical (In Russ.).
Lashkul, M.V., Tarasova, A.E. (2023). Restriction and deprivation of parental rights in the context of enhancing the social role of the family and strengthening traditional spiritual and moral values. Psychology and Law, 13(4), 294— (In Russ.). https://doi.org/10.17759/psylaw.2023130420
Maksimovich, L.B. (2018). The child's right to express his/her opinion: the content and limits. Family and Housing Law, 6, 4— (In Russ.). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36511486 (viewed: 16.03.2025).
Maksimovich, L.B. (2005). On the right of the child to express his opinion. In: V.N. Litovkin (Ed.), Problems of civil, family and housing legislation: A collection of articles (pp. 58—70). Moscow: Gorodets Publ. (In Russ.).
Maksimovich, L.B. (2024). The child’s right to an opinion: problems of legislation. Demidov Law Journal, 14(1), 62–73. (In Russ.). https://doi.org/10.18255/2306-5648-2024-1-62-73
Savelyeva, N.M. (2004). The legal status of a child in the Russian Federation: civil law and family law aspects: specialty: Extended abstr. Cand. of Law: 00.03 Civil law; business law; family law; private international law. Samara State University. Belgorod. (In Russ.). URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002630577 (viewed: 16.03.2025).
Tarasova, A.E. (2008). Legal Personality of Citizens: Features of the Legal Personality of Minors and Their Manifestations in Civil Offenses. Moscow: Wolters Kluwer (In Russ.).
Ulyanova, M.V. (2022). The Right of the Child to Express Opinion: Content, Procedure and Limits of Implementation. Lex russica. 75(11), 31–41. (In Russ.). https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.192.11.031-041
Ulyanova, M.V. The role of the UN Committee on the Rights of the Child in human rights activities: an example of the implementation of the child's right to express his opinion. In: A.E. Tarasova (Ed.), International legal aspects of family law and the protection of children's rights: public and private international law: A collection of articles based on the results of the section "International Protection of Children's and Family Rights" of the 65th Anniversary Annual Meeting of the Russian Association of International Law (RAMP), Moscow, November 11, 2022 (с. 99–104). Moscow: Rusains Limited Liability Company. (In Russ.).
Chashchina, I.A., Zentsova, V.M. (2020). Protection of minors in civil proceedings (on the example of cases on deprivation of parental rights). Arbitration and Civil Process, 7, 22—26. https://doi.org/10.18572/1812-383X-2020-7-22-26. (In Russ.).
Yakovlev, V.F. (1978). The sectoral method of regulation and civil legal personality. In: O.A. Krasavchikov (Ed.), Legal issues of civil legal personality: Interuniversity collection of scientific works (pp. 27—44). Sverdlovsk: Ural University Press. (In Russ.).
Views
Abstract - 0
PDF (Russian) - 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.